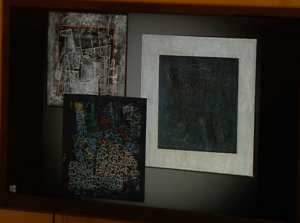Запись третья. Сегодня сверстал афишу, забавная получилась: сделал коллажик из разных современных авторов. Томный взор Воденникова, нос Полозковой, усы, разумеется, Быкова. Собирательный образ, как-никак.
По поводу вчерашней записи. Забавно, что всё так и остановилось на обсуждении проверки временем. Про всякие там критерии Казиника, Веллера и сетевых эссеистов не вызвало, видимо, сомнений. Уже хорошо.
Так или иначе, мы проговорили, что у разных читателей и экспертов есть самые разные теории деления на хорошую и плохую поэзию, спорные сомнительные, для кого-то верные, но очень и очень разные. А, собственно, так ли важно понимать и отличать хорошее от плохого? А главное, зачем?
Когда мы делали конференцию на Пушкинской-10 о вопросах сетевой литературы, Дмитрий Легеза высказал мнение, что между хорошей и плохой поэзией разницы нет, если рассматривать реакцию потребителей. То есть, любитель гамбургера получает ровно те же эмоции от поедания оного, какие эстет от вкушения произведения высокой кухни.
Если перевести эту мысль в метафору алкоголическую, что мне ближе, то развить её можно следующим образом. Если человек хочет просто хорошо провести время и захмелеть, ему следует методом проб и ошибок просто найти «свой» напиток, то, что будет лично ему по душе: кому-то Цинандали, а кому-то и Три Топора вполне. Так а по каким причинам тот или иной потребитель может захотеть разбираться в напитках, уметь оценивать букет и отличать качественный алкоголь от контрафакта? Причин может быть несколько.
1. Выпендрёж и понт. Встречается среди читателей, кстати, тоже очень часто. Умение аргументированно и надменно сказать: этот ваш Есенин — как зубровка, а вот Пастернака нужно сначала на донышко, потом вдохнуть, потом глоточек, и только потом можете налить на две трети. Как это выглядит в реальности: достаточно посмотреть любой почти выпуск «Школы Злословия» с поэтом в гостях. Вот уж точно, два тончайших дегустатора сидит.
2. Хотя, Толстая и Смирнова относятся, скорее, ко второй категории — тех, для кого такое знание обязательная программа, принадлежность к социальной группе. Так представитель высшего общества просто обязан разбираться в элитном алкоголе. Не потому, что очень хочет, просто обязан. Как носить дорогую обувь и часы. Вот и аристократы духа обязаны, иначе свои не поймут. Поэтому, кстати, так сложно воспринимать некоторым таким аристократам Веллера с его презрением к модернистской литературе.
3. Критики, они же дегустаторы.
4. И, вероятно, последняя (если не укажете ещё) категория граждан, самая интересная, о которой и можно поговорить (не о вышеперечисленных же). Это искренне желающие саморазвития в этой области. Те, кто хочет научиться разбираться в алкоголе только для себя, не замышляя планов соблазнения и распускания перьев, не собираясь становиться критиком или пролезать в высший свет. Немного, наверно, таких, но, есть же, наверное.
Абстрактное саморазвитие. Думаю, три четверти таких сумасшедших сами что-то пишут, потому и хотят настроить свой инструмент. Самогонщики. И вот у них-то самая трудная задача. Если понторезам достаточно выучить, кого там считают хорошими поэтами аристократы духа, аристократам духа достаточно договориться между собой, критикам достаточно почувствовать, куда дует сейчас ветер и держаться либо по ветру, либо принципиально против, то последним нужно искать критерии и ответы. Беда в том, что большинство источников пишут те трое: критик, аристократ и понторез.
Кстати, прежде чем продолжим, а нужно ли? Может, всё-таки, плюнуть, выпить, что по душе и расслабиться? Кто какую стратегию для себя выбрал?
Принято. Оценка эксперта: 28 баллов