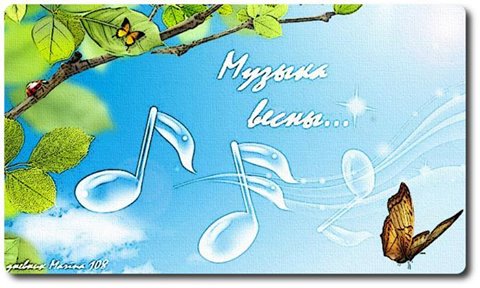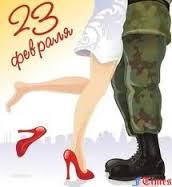На спектакль «Прощайиюнь», поставленный по пьесе Александра Вампилова «Прощание а июне» питерским театром «Суббота», я шел с большой опаской. Знакомство с театральными тенденциями последних лет настораживало. Я ожидал, что содержание пьесы будет искажено как-нибудь в духе искажения названия. Боялся увидеть что-то несерьезное и разболтанное «по мотивам» произведения одного из лучших советских драматургов.
Признаюсь, я был крайне приятно разочарован в своих опасениях. Дух театра Вампилова (драматург написал за свою трагически оборвавшуюся жизнь меньше десятка пьес, но его творчество получило в театральном мире именно это определение) присутствовал на сцене с первых же минут действия и никуда не исчезал до самого конца представления. Этому как нельзя лучше способствовала камерная атмосфера небольшого театрального зала и сценического пространства, которое как сцену, собственно, могли нам представить исключительно одаренные творческие люди. Но уж так заведено, к счастью, что бедность средств материальных стимулирует творцов на совершенствование и обогащение творческих палитр,
К тому же речь в спектакле идет о студентах. И «ненастоящая» сцена только помогала создать саму уникальную атмосферу студенческой жизни. Ретростуденческой. От тех времен, когда студиозусы не могли еще себе позволить раскатывать на мерсах, и прожигать жизнь в ночных элитных клубах. Зато ректор университета вполне мог запросто зайти в общежитие на свадьбу к дипломникам. Возможно, кстати, что какие то «восхищальные» эмоции можно отнести к моей ностальгической тоске по временам собственной студенческой юности. Но вот ведь что интересно.
В небольшом зале, что говорится, яблоку было негде упасть. Спектакль шел практически с аншлагом. А вот зрители были в подавляющем своем большинстве отнюдь не мои ровесники, а студенческого и чуть послестуденческого возрастов. Но в своих эмоциях зал был единодушен со мной, а я с залом. Нам было хорошо. Мы полностью вовлекались в соучастие, сопереживание и это было здорово, честно вам скажу. Замечательная игра артистов, четкие и интересные мизансцены, экспрессия и динамика развития действия — все этому способствовало.
Это мое первое знакомство с «Субботой», потому не знаю — обычно ли для театра, но «Прощайиюнь» был решен в достаточно строгой манере «театра показа», более того в самой классической его модели, близкой к родоначалию — Бертольду Брехту и, собственно, породившему Брехта агиттеатру молодой советской России, Синей Блузе. И да — эта модель, в принципе более подходит решения проблем, поставленных Вампиловым, чем «театр переживания» от Станиславского. Известные мне попытки ставить Вампилова «строго по Станиславскому» как минимум делали постановки затянутыми, да даже и нудноватыми. Терялась заложенная драматургом в пьесу, бешеная экспрессия.
Так что методика «театра показа» в этом — громадный плюс. Надо сказать, Вампилова в классической модели «от Брехта» мне еще видеть не доводилось, чаще режиссеры более-менее удачно обращаются к некоей эклектической синтетике методов: Брехт-Станиславский-Мейерходьд-мюзикл-эстрада-цирковая реприза, комбинируя все эти ингредиенты винегрета по вкусу. Но в этот раз встретилось достаточно цельное единство стиля и метода, что придавало спектаклю особый постановочный шарм.
Но не обошлось и без минусов. Для меня во всяком случае. Возможно, это касается исключительно моего прочтения Вампилова. Поэтому я ни в коем случаю не хочу выдавать свое мнение за истину в последней инстанции. Но мне кажется, в спектакле слегка потерялись и смешались смыслы. Ведь что такое Вампилов. Это в первую очередь философ. Он ставит вопросы, но ответов не дает. Он модернизирует древнюю технику нравоучительной беседы через рассказывание собеседнику разнообразных притч на подходящую тему. Вот, мол, набор притч, сам решай, что тебе милей, дорогой товарищ зритель. При этом сам драматург довольно тщательно пытается скрывать свое авторское отношение к происходящему. И это ему почти удается.
Впрочем, пора напомнить читателю, в чем же собственно суть этих притч. Начинаем. Речь собственно идет о жертвах и целях этих жертв. Первая, и главная из притч (они оформлены в пьесе как самостоятельные сюжетные линии) о пожертвовании любовью во имя дружбы. Фабула проста. В разгар студенческой свадьбы, изрядно перебрав, лучший друг жениха Букина, Гомыра начинает изрекать пафосные слова, которые очень оскорбляют невесту Машу. Вплоть до того, что она ставит ультиматум: пусть уйдет или уйду я. Но для жениха сомнений нет: он мой друг и он остается. Тогда уходит невеста. Она тоже жертвует любовью. Ради возможности оставаться полномасштабной личностью. А не игрушкой мужчины. Пока на этом остановимся.
Но становится видно, что постановщику много милей вторая главная притча, ради которой он, собственно, пьесу и ставит. Тут фабула вполне себе банальна. Дипломник того же вуза, Колесов, встречает случайно девушку Таню, с которой готов связать свою жизнь долгими семейными узами. Но вот беда – она оказывается дочерью ректора. А сам он мало того что случайно в темноте оскорбил ректора действием, но и загремел на 15 суток по другому поводу. Итог — исключение из института, причем папа — ректор неумолим. Он вовсе не хочет дочери такого мужа и надеется, что после всего она охладеет к «проходимцу». Но надежды не оправдываются. И ректор предлагает сделку: восстановление в институте в обмен на свою дочь, которую Колесов должен прогнать от себя. Вот тут вновь случается пожертвование любовью. На этот раз — ради благополучного завершения института человеком, который – особо подчеркнем — считает уже себя ученым.
В финале пьесы папе ректору приходится надбавить – предложить «ученому» место в аспирантуре. Колесов сжигает за собой мосты: он рассказывает о сделке пришедшей на выпускной вечер дипломников Тане. В итоге та потеряна для него. Нет, она не то чтобы разлюбила или посчитала его таким уж негодяем. Она не хочет быть далее предметом торгов, и не уверена, что без этого обойдется. Вот причина, по которой она жертвует своей любовью. Потому что сама любовь не прошла и простить Колесова Таня готова. Но быть объектом его продаж – нет.
А теперь вернемся к первой притче. Заканчивается она тем, что Гомыра – абсолютно трезвый – подходит к Маше и вызывает ее на разговор с глазу на глаз. Это у Вампилова. О чем они говорят – никто не знает, разговор проходит за кулисами. Но можно предположить, что гордый женоненавистник Гомыра в этот раз серьезно пожертвовал своими принципами (это, опять же, параллель со второй притчей, где принципами вместе с любовью пожертвовал и Колесов, позволив себя купить). И вот этот момент очень важен для понимания общего сюжета, общей идеи пьесы. Две притчи, две сюжетных линии. Причем в одной мораль более менее понятна: если дружба настоящая, то она стоит жертвы. Хотя весь ход событий в изложении драматурга отнюдь не вселяет в нас уверенность, что даже медовый месяц у молодых пройдет гладко. Не говоря о дальнейшей семейной жизни.
А в постановке Гомыра как заполошная гимназистка подбегает к и кричит «Маша, ты должна вернуться к Букину, он из-за тебя стрелялся»… Да, в пьесе есть и классический третий лишний, тоже дипломник Фролов, и этакая псевдодуэль с ним Букина. Но этот эпизод к делу не относится. Его функция – подчеркнуть, что соперник Букина, ухаживавший за Машей с первого курса – не гнилушка и не подонок, а, в общем, тоже настоящий мужик, который не сдрейфил под дулом заряженного ружья. Но по воле режиссера наша цельная суровая Маша вскидывается и со всех ног несется искать дорогого, едва не застреленного Букина «Неправда», — непременно сказал бы здесь Немирович Данченко. Но…спектакль в духе Брехта, а не Станиславского.…Ну и проскакивает. А жаль. Заакцентировать развязку первой сюжетной линии Брехт, ей богу бы, не помешал. Но, увы, она оказалась, в общем-то, потерянной. Потерялась и вся притча, расплывшись красочным фоном для оформления слезливой и несколько банальной мелодрамы.
Тут еще хочется вернуться собственно к образу Гомыры. Он единственный среди героев пьесы носит не фамилию, а кличку. А почему, собственно, Гомыра? Что гомыра? Кому гомыра? Мало кто сегодня помнит, что эта кличка была некогда почетной – она доставалась непросыхающему хроническому алкоголику. Но не любому, а лишь очень харизматичному, уважаемому окружающими. Для не уважаемых были пренебрежительные: Шлак, Шланг, Алик, Хрон…. А гомыра – так в народном жаргоне звалось крепкое спиртовое пойло самого низкого пошиба. То, что в рот силком загонять приходится, зато в башку торкает по высшему классу. Например, гомырой или гомыркой ценители экстрима зовут фруктовые эссенции на спирту для ароматизации лимонадных сиропов. Крепость от 80 градусов, да эфирные фруктовые масла свое кино добавляют. Как жахнет по мозгам, так жахнет. Соответственно и герой Вампилова по замыслу драматурга имеет достаточно твердый и жесткий характер. А в постановке – этакий плюшевый мишка, что все время валяется на полу и бормочет нудные глупости. Пожертвовать женой ради такого…я бы на месте Маши этого точно никогда не простил.
И вот вам еще одна притча. Вспомогательная. Маленькая. Колесов наносит визит в дом ректора. Это как бы не имеет отношения к Букину и Маше. Но визит провоцирует долго копившую в себе недовольство супругу ректора на откровенность. В беседе с мужем она высказывает наболевшее. То, что она пожертвовала своей личностью, своим эго, чтобы стать женой хорошей ученого, домохозяйкой. Но ученого то и не было. Был лишь администратор с элементами ученой деятельности, необходимыми для администратора вуза. И это как бы противопоставление Маше, поставившей планку межсемейных отношений на уровне сохранения своей личности даже на фоне дружбы таких крутых харизматиков и «настоящих мужчин», как ее муж и Гомыра.
А вернемся опять к притче про Колесова. Самое-то интересное, что здесь автор ответа совершенно не дает. Плохо или хорошо? Можно или нельзя? И рефлексия героя, рвущего прилюдно купленный дорогой ценой диплом, выглядит несерьезно. Ведь мы все прекрасно знаем, что диплом – бумажка и восстановить утерянную бумажку можно в два счета. Протрезвеет, успокоится, да и пойдет себе в аспирантуру товарищ. Глядишь, и Таню уболтает. А вот выйдет ли из него ученый или же вырастет второй тесть-ректор – это, однако вопрос.
Вот такой вот густо замешанный компот. И согласитесь, выделяя только одну сюжетную линию Колесов-Таня, отказываясь от перекрестной притчеобразности вампиловского повествования, мы получаем всего лишь душещипательную индийскую мелодраму, пусть и самого хорошего качества. Достойную и слез и аплодисментов, и аншлагов, но не совсем достойную театра Вампилова. Думается, постановка прошла если не на грани фола, то в весьма опасной близости от скатывания в ту самую «индомелодрамщину».
Но, повторюсь, это лишь мое мнение, основанное на моем восприятии и моем персональном отношении к пьесе. Ведь то, что я увидел на сцене «Субботы», все равно было здорово. В этой оценке я был как раз не одинок. Весь зал аплодировал бурно и искренне.
Вместе со мной.
Или я – вместе с залом.